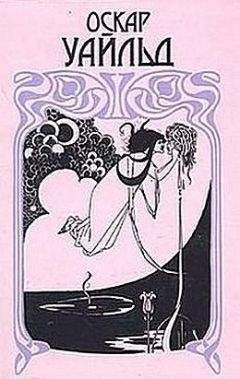И почему мне все и всё время «тыкают»?!
Я заводила тебе аккаунт в корпоративной почте, выбрав самое сложное написание латиницей твоей богатой согласными иудейской фамилии.
— Запомните, — откашлялась я, — И пароль.
* * *
Я помню твою кожу. Темноватую наглую вульву, детскую улыбку, развратный пупок. Я помню твои ногти, синими осколками вниз живота. Я помню твой запах, пряный и сладкий запах твоих подмышек. Их соль. Их вкус. Я помню твой сок на моем бедре. Я помню выпуклость твоей худой спины, твои динозаврьи позвонки, твои лопатки, ритмично выбивающие такт — «Ом» моего наслаждения. Я помню твои волосы, темные, строгие, жесткие. Я помню тебя. Я храню тебя. Прямо под кожей, я извлекаю тебя прикосновениями пальцев к щеке. Я дышу тобой, твоими губами, легкими. Я мастурбирую — твоими пальцами. Я закрываю глаза, я чувствую тебя. Я беременна тобой, я ношу тебя под сердцем.
* * *
— Отчего-то… — спустя полчаса войдя в наш небольшой кабинет, с вызовом сказала ты, — Ничего не работает!
— Что именно?
— Почта, — говоришь ты и слегка теряешься. Я знаю таких как женщинах как ты — вы умны, начитаны, хорошо готовите, прекрасно водите машину, но не умеете измерять уровень масла. Обращаться с компьютерами — тоже. Прикладные вещи — не про тебя.
— В каком именно месте? — спрашиваю я, с интересом развернувшись к ней. На самом деле совершенно без разницы в каком месте. Оно и не должно было работать. У сисадминов есть свои маленькие секреты и если я захочу, чтобы сотрудница обратилась ко мне за помощью, то она обратиться.
— Там выскакивает окошко с красной пимпочкой.
— С пимпочкой? С пимпочкой, это плохо, — я подтруниваю над тобой, и ты это знаешь.
— Пошли посмотрим? — говоришь ты почти с детской интонацией, и я отвечаю:
— Пойдемте.
Ты склонилась над столом, я чувствую запах твоего тела, весь этот букет, пропитавший твою плоть: запах твоих духов, запах твоей машины — смесь бензина и дурацкого хвойного ароматизатора. Ты мне желанна. Клитор мой взрывается тысячей мелких, острых осколков, сводя жадной судорогой ноги — от колен и выше. Ты склонилась над столом, и шея твоя, твой затылок так близко от моих губ. Я наклоняюсь вслед за тобой. Я смотрю в монитор. Сознание растворяется в сетке твоей кожи, капилляров и пор. Температура моего тела растет. Я накаляюсь.
— Готово, — говорю я, и голос мой предательски садится. Я плавлюсь.
— Спасибо, — отвечаешь ты. Смело, не отводя взгляда, смотришь в глаза. И я вздрагиваю всем телом, как нервная лошадь.
* * *
Я жажду тебя. И жажда эта разъедает меня кислотой. Ты — свежий снег, прикрывший грязь моих помыслов. Я сгребаю тебя в ладони, я окунаю в тебя лицо, я пожираю тебя больными губами. Я чувствую твой вкус, твою соль, твою суть. Ты ломкий утренний лед, сковавший озера моей печали. Ты жестокий воин, взявший меня в плен. Сломавший мою волю, сожравший мое сердце, вырвавший мой язык. Ты попираешь мою честь кованым сапогом. Ты приносишь мне страдания. Ты пронизываешь меня беспощадной рукой, через влагалище добираясь до самого моего. Ты лишаешь меня непорочности раскаленными языками своих пальцев. Ты причиняешь мне желание.
* * *
Со мной впервые случилось такое. Я назвала бы это — сексуальное наваждение. Я придумала массу предлогов познакомиться с тобой. Я разрабатывала планы твоего соблазнения с такой изощренностью, что позавидовал бы любой «Центр». Я впитывала следы твоего присутствия жадным пересохшим горлом заблудившегося в пустыне бедуина. Я косилась на дверь твоей всегда открытой нараспашку сороковой комнаты, с молчаливым стоном предугадывая твои передвижения по ней: вот ты звонишь по телефону. Твоя рука берет белую стандартную, такую же, как у меня на столе, трубку и кладет на плечо. Вот твой подбородок прижимает ее крепко, чтобы она не упала, а рука тянется за ручкой и ты, то сердито, то довольно, то равнодушно, то с воодушевлением произносишь, — «Да, да…» — и твоя рука с твердыми ногтями выводит замысловатые закорючки на белоснежной плоти еженедельника. Я вслушивалась в это «да», вырывавшееся из твоих губ, слегка обветренных и строгих, и душа моя пьянела в ритме вечного танца страсти, и пол уходил из-под ног. Сглотнув, я топала мимо с независимым и хмурым видом, но в душе… в душе я хотела быть хотя бы этой телефонной трубкой прижатой так близко к твоим губам.
* * *
Я отправляю по тебе службы. Я пою псалмы в твою честь. Я изгоняю из храмов богов и воздвигаю тебе алтарь. Я распинаю тебя на кресте и приношу тебе святые дары своей приверженности. Становлюсь твоим сторожевым псом, твоим хранителем, твоим пророком. Я пригвождаю тебя к себе, иссушаю твою плоть и поглощаю экскременты. Я становлюсь тобой, твоим космосом, твоим смыслом, твоей самой фанатичной религией.
* * *
Это было тогда. А сейчас, в этой почти пустой комнате без занавесок, где из всей мебели была лишь кровать да телевизор, ты сказала мне:
— Я никогда не лгу тебе, — и отвернулась, — Мне надо поработать.
Которая, интересно, это комната по счету в череде наших тайных встреч? Я смотрю на твою узкую спину, с чуть тяжеловатой для нее головой в черном ореоле густых, слегка вьющихся волос. Острые плечи слегка выдающиеся под крупной вязкой мягкого свитера. Пахло кожзаменителем твоего официального и заносчивого чемодана, в котором ты обычно носила ноутбук и прочую мобильную дрянь, и чуть уловимо — неправдой. Все-таки ты лгала мне.
* * *
В моем саду увяли все розы. В моем саду наступила великая сушь. В моем саду никогда и не было роз, в нем цвели лишь шипы моей ненависти. К тебе. Твоему лицу. К твоему запаху и влаге твоего совокупления. Моя рука тянется к тебе, к ломкой шее, берет ее властно, решительно застегивая замки пальцев, и опрокидывает на спину. Я закрываю глаза. Я погружаюсь в тебя. Я зарываюсь лицом в твою плоть. В мой мир, мою колыбель, мою обитель, в мой ад.
* * *
Твое тело всегда смущало меня, причиняя почти физическую боль — настолько оно было вожделенно для меня. В этом болезненном влечении к тебе густо смешивалась страсть и похоть, желание обладать и принадлежать, нежность и желание причинить тебе боль. Строгое и жадное, ненасытное и властное, твое тело не дарило мне покоя. Самый искусный инструмент для пыток не мог сравниться в науке пыток с твоим телом: плоским и бледным, почти прозрачным, с выбритым лобком, с неожиданной большой и бесстыжей промежностью. Темной, почти черной, не вяжущейся с небольшими бугорками твоих подростковых грудей, со светлыми ореолами твоих сосков. Встав от возбуждения, твои соски затвердевали, словно наконечники пик. Острозаточенных, ранящих, недоступных горных вершин к покорению которых всегда будут стремиться мои губы.
* * *
Я жажду твоей благодарности. Тихих поцелуев моего лица, век, проколотых бровей, моих выпитых тобой обветренных губ. Но ты лишь вздыхаешь, глядя на меня благодарными глазами сытой бляди и чуть оголяя зубы в усталом оскале улыбки, неслышно смыкаешь ресницы. И я пью твое ровное ароматное дыхание. Осторожно стягиваю с тебя простыню, словно опасаясь, что снимаю с тебя кожу. Я впитываю тебя, поглощаю глазами. Я наклоняюсь, я припадаю к тебе. Отрываю звериными зубами клочья твоей плоти, оголяя ребра и кости, я пожираю тебя — и не могу насытиться. Утираю багровые губы, словно вампир, принявший дозу твоей крови. Чуть солоноватой, густой и черной. Я раскатываю вязкий катышек на своем языке — твое семя, способное оплодотворить меня. «Всего лишь месячные», — говоришь ты и целуешь в рот.
Наша сперма смешалась. Мы стали едины.
* * *
В тот вечер я не сводила с нее глаз. Мой взгляд прилип и не желал ни на минуту расставаться с ее породистым носом, строго-чувственными улыбчивыми губами. Я боялась столкнуться с ней глазами, любое движение ее головы в мою стороны заставляло сердце трусливо замирать и бешено колотиться, при этом ощущение какого-то дикого восторга разрывало меня изнутри. Одновременно, я не желала становиться объектом ее, такого же бесстыдного, как и мой интереса и жаждала его.
— Что будешь пить? — Вован толкнул меня под локоть, — Да проснись же!
— Коньяк, — сказала я, — Я буду пить коньяк.
Очередная редакционная вечеринка шла полным ходом. Кое-где уже мелькали в танцевальных притопываниях радостно-красные лица сотрудников. Один уважаемый обозреватель старательно и медленно пережевывал девице с усами идею всех фильмов Гринуэя вместе взятых. Вован с секретаршей, весь вечер воздерживавшиеся от всяческого алкоголя, уже, похоже, забили пару косяков и самозабвенно инсценировали танцевальную сцену из фильма Квентина Тарантино на песню «Герл ю уил би э вуман сунн». На слове «сунн» у секретарши куда-то назад отваливалась голова, являя миру спелый прыщ на подбородке. Грустный начальник фото-отдела задумчиво выпиливал бутербродным ножом снежинки из лимона и старательно развешивал их по краям своей одноразовой тарелки. В углу радостно ржали. За окном падал снег.
![Анастасия Вихрова - Deep in work[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)